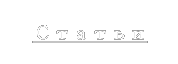Лет десять назад я собрался написать записки "Маладзік. Поўня. Ветах." Время шло, и вот «Маладзік. Поўня» остались позади, а пишу «Ветах»: записывая картинки из детства, чувствуешь на себе груз прожитых лет, а иначе, старости.
Вчера и сегодня
В восемь лет я был горнистом в нашем большом дворе на Московской улице в Минске. Я в семь часов поднимался, выходил во двор и играл сигнал "Подъем". Это очень здорово у меня получалось. И минут через пятнадцать собирались все мальчики и все девочки. Их голоса меня радовали, особенно, их похвалы, и я не могу придумать что-нибудь более приятное.
А сегодня некому играть сигнал, и, главное, никого не хочется видеть. Никто не может так порадоваться, как радовались в нашем детстве. Сейчас меня больше тянет глядеть на закатное багряное небо, темные облака, которые уходят за горизонт; в беге облаков, ушедших в неизвестную сторону, мне видится, что придется уйти в неизвестность в неизвестное время.
Привидения
Никогда в жизни, даже в 10 лет, я не верил в привидения. Один раз все же волосы у меня на голове встали дыбом. Это было на Кальварийском кладбище, мне было лет 20, по моде прошлого века мы гуляли там с Виолеттой. Когда мы были возле закрытого костела, вдруг послышались размеренные шаги вдали, которые приближались, но не видно было, кто спешил. И вдруг на дорожке мы увидели большой белый квадрат на расстоянии одного метра от земли, он скоро спешил к нам. В кладбищенской тишине, без света, этот квадрат проделал путь до нас. Мы стояли на краю дорожки, погруженные в ужас, не в силах шевельнуться, и волосы стали подыматься у нас на голове. Квадрат с такой скоростью несся, что нельзя было предположить в нем что-либо естественное. И только когда квадрат поравнялся с нами, мы поняли, что это человек, одетый в черные брюки и белую майку. Этот случай показывает, что наши чувства отличны от знания вещей — если бы человек в черных штанах и белой майке свернул на боковую дорожку, мы всё приняли бы за появление призрака.
Но у меня был случай, когда я утром при свежей голове видел крошечных людей, и никто не переубедит меня, что это был сон. Мне было семь лет, никогда я не читал про лилипутов, и никогда даже не слышал о них. Я проснулся, в комнате никого не было, за дверью слышались голоса бабушки и мамы, вставать мне не хотелось, солнце освещало всю стену, и вдруг я смотрю - по электропроводке под потолком, она не доходила до него 10-12 см, идет крошечный человек. Он был с зонтиком и нес в руке чемоданчик, прошел по проводке до ее поворота на потолок и исчез в стене. Человек меня поразил, я даже через шестьдесят лет его помню. Помню его черный зонтик, черный пиджак, серые брюки, я плохо рассмотрел его лицо — он был не выше 8 см. Кто это был, почему он шел с чемоданчиком, куда уезжал, почему он ушел в стену — загадки, которые мне не разгадать.
«Надо выбираться»
Маленькая Таня спит вместе со мной на широком диване. Она ворочается во сне, разбрасывает руки, упирается ногами мне в бок. И вот однажды Таня захотела спать «валетом». Посреди ночи я проснулся, она сидела в каком-то бессознательном состоянии и быстро говорила встревоженным голосом: «Надо выбираться!», «Надо выбираться!», «Надо выбираться!». Потом повернулась в обычную сторону и заснула. Только успел под голову подложить подушку. Вот у меня застрял вопрос — из чего ей «надо выбираться»?
Дивизия в рамках
В году, может, сорок восьмом или сорок девятом , да и неважно в каком именно, но где-то вскоре после войны, когда началась широкая мобилизация из армии, пошли мы с ребятами с нашего двора на футбол. То есть хотели пролезть в какую-нибудь щелку между разъездами конной милиции, которая в те годы обеспечивала порядок вокруг нашего маленького тогда «Динамо». Вот идем мы мимо гостиницы «Беларусь» (ныне переименованной в гостиницу «Свислочь»). Густая толпа народа прет ко входу на стадион, и вдруг посредине ее образуется круг диаметром метров пять, и в нем стоят два милиционера в старой еще послевоенной синего цвета форме, а напротив них - мужчина, как сейчас понимаю, парень лет двадцати пяти — тридцати. Очень стройный, видно, что на легком подпитии, а черты лица у него жесткие, как у главного героя в фильме «Холодное лето 53-го». Между ними вражда, милиционеры хотят его забрать, а он говорит: «Попробуйте! Вы знаете кто я? Я — дивизия в рамках!» И несколько раз повторил «дивизия в рамках». И на всю жизнь запомнились его интонация, и эти слова, и то, что два милиционера махнули рукой и пошли в толпу в одну сторону, а он — в другую. Много было тогда после войны ребят, способных говорить от имени дивизии, с кровавой памятью, способных легко отнять жизнь, не дорожа своей.
Прототип
У меня есть повесть «Три жизни княгиня Рогнеды». Она получилась потому, что там есть прототип Рогнеды — Лора. Если приглядеться — там все Лорины черты. Все мои главные повести содержат ее образ. Ее лицо, натура, действия всегда были передо мной, когда я писал. Я не могу писать хорошо, мое письмо далеко от совершенства — Рогнеда составляет лишь малую часть Лоры, но для меня это Лора.
Затворница
Все расставилось на свои места, когда она поняла, что у людей разный несравнимый опыт. Не могут быть советчиками и судьями те, у кого иной опыт. Ну, пусть отгадают, думала она, почему ей так хотелось иметь дорогое кресло, обтянутое атласом, которое располагает к необязательному чтению. Привычка уютного детства? Нет, это был маленький реванш за ту детскую горечь, когда на ночь ей стелили под столом соломенный тюфяк. Днем тюфяк убирался под кровать, на ночь она тянула его под стол; другого своего места у нее не было, дом был наполнен людьми; спать под столом было неуютно, но лучше чем спать вместе с родителями, чье дыхание, похрапыванье, запахи разрушали ее сны, загоняли в какую-то тьму, в жесткую первобытность. Своя кровать, пусть узенькая, маленькая кроватка, своя постель, одеяло с пододеяльником, простыня, своя подушка — получить это казалось и станет осуществлением счастья.
Там, под столом, было ее место уединения; в тесном пространстве., ограниченном четырьмя ножками и занавесями плюшевой скатерти с самодельной бахромой из ирисовых ниток, в этой келье, недоступной лучу солнца и безразличной взрослым, она была затворницей, постигавшей мир духовным зрением, чувствовала себя пленницей, которую кто-то разыскивает, чтобы вернуть настоящим родителям, в прекрасный мир...
Многие дети играют под столом, но живут там немногие, и вспоминать об этом они не любят, у них другой опыт... Надо родиться и вырасти в такой семье, где радостно бывает каждому только во снах, а дневная явь — как душный тягостный сон, и тогда, если не сдашься, тебя будет спасать яростное стремление оторваться от такой тяжести, тесноты и приниженных привычек, от судьбы, которая на всех в таком доме ставит печать жизненной обреченности. Что кресло — она в нем не сидит, но оно, похожее на ступеньку, завершает памятный ряд мебели - самодельные домашние табуреты, холодные стулья книжного читального зала, где она, как в церкви, проводила свои вечера и воскресенья, двуногие лавки детской изостудии, шершавые уличные скамейки, на которых приходилось коротать длинные вечера, чтобы придти домой в темноте, когда не видно тягостного движения равнодушных к тебе людей. Ничего они не передали ей, кроме дыхания и страха поджидающего ее несчастья. Даже профессию она получила против их воли, направив все упорство на развитие своих способностей, своих картин, которые открывались ей в детских снах...
Забираясь под стол, в свою пещеру, она мечтала. Можно сказать, что там она молилась. Ведь молитва — это та же мечта. Там, в сумраке, созданном тяжелой бархатной скатертью, виделись ей неясные очертания некиих счастливых мест, какие-то люди иного физического сложения, откровенные, с ясным взглядом, дружественные, заботливые, веселые, они манили ее в свой прекрасный мир, одобряли ее мечту выбраться из пещеры. Она чувствовала себя Дон-Кихотом, которому стало пусто в старом домике среди каменистых пустырей, вечернего гитарного перезвона и деревенской бесхитростной любви. В путь — вот чего ей хотелось, в путь, чтобы найти эту прекрасную страну, обрисованную мечтой. Теперь она знала, что тусклая убогая домашняя жизнь — это временное ее заключение; осталось ждать, когда истечет его срок, но уже можно было и дожидаться, расширяя свою свободу через книги, выбирая из них все, что служило мечте. Дом был ночлежкой, местом сна, где в маленьком пространстве под столом создавался ее мир, и, когда смеживались веки, он волшебным образом занимал весь космос, где она открывала для себя таинственную красоту далекого ночного неба.
После плена
Попав в Новый Афон, она сходила в бывший православный монастырь, превращенный в дом отдыха. Динамик ревел на столбе, развеивая затаившийся в щелках бывших келий, в стенах церкви шепот молитв... Она обошла вокруг здания, постояла во дворе на старых камнях, вошла в какую-то дверь, прикрывавшую коммунального вида коридор, вышла и спустилась к морю по каменным истертым ступеням, думая, что здесь ходил и один из немногих ее родственников той линии, о которой отрывочные сведения иногда подавал отец. И он сам был тут однажды, давно, до войны, когда приехал навестить дядю...
Еще отец не мог не посещать пещеру, где, по легенде, жил кто-то из апостолов, пока его настойчивая проповедь не вывела из терпения горячее и скорое на кинжальную расправу местное население. Кровь мученика якобы до сегодняшнего дня различима на камнях в ручье, вдоль которого по яркой пронизанном солнцем роще протоптана тропа, используемая ныне как маршрут здоровья. Так вот об этом дяде, чьи неспешные шаги слышались ей на тропе сквозь шлепанье сотен «вьетнамок», а взгляд серых глаз виделся в струях воды надо красными камнями и на стенах древней пещеры, где, рассеивая сумрак, горели свечи, принесенные туристами, об этом человеке, потерявшем детей и жену, и трудившемся на монастырской виноградной плантации, она знала со слов отца, что он был несчастен, потому что был честен. Дядя не хотел потерять честь, ему пришлось расплатиться горем, его семье — жизнями.
Когда ее отец отыскивал свои пути в жизненном бездорожье, он решил повидать отцова брата, единственную живую родню по мужской линии в глубину времен; сгинувший дядя, оказалось, прижился на чужой земле, — пройти мимо, забыть о нем не допустило чувство уважения, которое сопровождало все рассказы о нем.
Он был священник в станичной церкви. Но в двадцать первом году церковь сгорела в огне межусобицы между белыми и красными казаками, семью дяди выкосило тифом. Дядя схоронил родных, поставил кресты, помолился и побрел от места скорби по пыльным проселкам через разваленные войной земли, мимо свежих курганов. Он брел, и нескончаемая дума его не отрывалась от непонятности смысла, которым руководствовался господь, допустив сойти с этого света всем его близким. Дядя никак не мог постичь этот смысл и искал ответ у монахов новоафонского монастыря. Они ответили ему, что божий промысел не дается человеческому разумению. Если Бог захочет — откроет ему. Пусть утешится утешением других. Дядя стал монахом и пребывал в монастыре до его последнего дня, когда монастырское здание было передано под здравницу трудящихся. На этом сведения о жизни дяди обрывались... Что с ним стало? Куда ушел? Как жил? Где? Долго ли? Или вывезли его в Сибирь в лагерь, и там поглотила его тьма неизвестности? Отец ездил к дяде задолго до войны и до передачи монастыря под дом отдыха. На дяде была отбеленная солнцем, залатанная ряса, на ногах — монастырской выделки кожаные лапти. Отец, изгнанный из военного училища как сын казачьего капитана, был в солдатской гимнастерке, шароварах и сапогах. Они посидели вспоминая всех, кого помнили, повздыхали о недоступности их пониманию какого-то ядра жизни, которое разносит все, и разошлись — один в келью помолиться перед вечерней работой на винограднике, другой — на пристань ожидать катер. Оба поплакали на прощание, омывая слезами разваленную жизнь и память о своем роде, о множестве родных людей, которые остались только у них в сердце.
Прошлое и будущее
Всю жизнь меня тянуло прошлое, но сейчас мне стало интересно будущее, лет этак через двести. Как люди будут жить в нем? И могут ли в нем сохраниться белорусы, которые в большинстве своем не знают своего языка, истории своей страны, и которых соседи – русские и поляки – всегда растаскивали в свои державы?
Ванька-встанька
Безногий инвалид продавал в подворотне по 3 рубля узкую коробочку, по которой перекуливался Ванька-встанька - трубочка из бумаги, в которой был шарик из подшипника. Однажды мы нашли 50 рублей и накупили этих Ванек. Безногий инвалид был счастлив и сразу на своей платформе на колесиках поехал в «Голубой Дунай» пить водку.
Внук Гнатка
1 февраля Аня родила Игната. Я себя «помню» с 9-месячного возраста (так мне рассказывали мама и бабушка) – как мама меня пронесла под бомбежками до Смилович, а потом обратно в Минск. А рядом шла контуженная бабушка и Зара восьми лет. А до начала войны никаких сведений они не сохранили. Никогда не верил, что выпадет честь ухаживать за внуком в 68 лет. С Татой все было иначе – я был здоров. А сейчас в любой момент может случиться инсульт, и это заставляет меня заботиться о малыше: ни дай бог, чтобы я и он были на улице одни.
Зяма
Зяма был на войне и ходил в солдатской форме. Это был крепкий толстый еврей. Он выносил из сарая верстак, с укрепленной на нем железной балкой, и целый день работал с жестью – поддоны, бляхи, заслонки – бил деревянным молотком. У него был сын – Линька, такой же толстый и здоровый, и жена такая же толстая. Она высовывалась в окно третьего этажа и кричала: «Зяма, иди обедать!» или «Ленька, беги домой!» - голос у нее был как труба. Чтобы не слышать этих криков, ребята сами гнали Леньку домой.
Из еврейских семей были еще Додик, Эрик Фридман, Эрик Розовский, Генка Кричевский. О них никто и не думал, что евреи. Доставалось только одному, которого отец таскал за руку играть на скрипке и в шахматы. Его дразнили «ташкентский партизан», почему и за что – непонятно, просто он был немножко иной.
Монах
Были три брата Чеховские – Монах, Генка и Севка, а еще у них была сестра, имени ее не помню – она была намного моложе. Генка был совершенных способностей. Он доучился до 10 класса, ему прочили золотую медаль, но он вляпался в какую-то кражу и угодил в тюрьму. Невезучим был Севка, он ничего не делал, но всегда за все отвечал. Но самим страшным был Монах. Он мог часами сидеть на краю четырехэтажного дома и спускать оттуда кота с привязанным под брюхо хвостом – кот, разумеется, разбивался. Наверное, мы были рады, когда его забрали в армию, в Черноморский флот. Севка даже показывал фото – Монах в матросской форме, в бескозырке с ленточкой, на которой было написано «Крейсер «Новороссийск». Неожиданно крейсер затонул, когда был в гавани, и среди погибших моряков оказался Монах. Не знаю более мистического происшествия с ребятами в моем детстве...
Старый двор
Иногда, когда случается, захожу на старый двор - тут прошло мое детство. Подхожу к подъезду, где мы жили на первом этаже, к окнам кухонному и комнаты, в которой жили бабушка, я и сестра. Сейчас во дворе все по-иному. Только подъезды те же, откуда выбегали друзья. Двор был застроен сараями – восемьдесят сараев. На узеньком тротуаре старшие парни и девушки танцевали под патефон или аккордеон. В первом подъезде жили Фарберовы – все низенькие и толстенькие, мы бросали им в окна дымовухи и заливались хохотом, когда они выбегали на улицу с криками «Хулиганы!» Был тут сарай радиомастерской - который мы обокрали, проделав в крыше дыру, а затем алюминиевыми лентами из конденсаторов были украшены все деревья на Московской улице, как на карнавале. На самом краю крыши над пятым подъездом некогда сидел Монах - и бросал вниз кошку с подвязанным к задним ногам хвостом. А еще в доме были подвалы - в первом была радиомастерская, во втором жила большая семья, в которой сын Вова погиб на нашей улице под трамваем. В третьем классе я влюбился в девочку из первого подъезда и рассказал своим друзьям. Назавтра на асфальте возле каждого подъезда было мелом большим буквами написано «К+Т=Л». Я стирал это предательство. Из седьмого подъезда, где мы жили, вынесли хоронить бабушку. Ее пронесли мимо всех подъездов, словно прощаясь с ними, в край двора, там стоял автобус. А в сарае оставалась ее коза, которую я доил.
Услышанное
«Есть какая-то отрава в необходимости разъяснять свое, как бы навязывать себя, прокладывать дорогу к общению с немым или глухим. А он стремится к общению, потому что чувствует в тебе силу, стержень, столб, на который можно с уверенностью опереться. И эти аморфные люди окутывают душным туманом, и тяжело дышать. Слабые потребляют тебя неприметным облизыванием, как мороженое, да еще стараются научить своей правде...
Чаще рядом оказываются двусущностные, двухстихийные: после некоторого веянья живым дыханьем они, словно лягушки засидевшиеся под солнцем, испытывали потребность прыгнуть в грязь. Например сказать: «Ты не умеешь жить» или «Ты думаешь только о себе» или «Ну, ты много хочешь!» Все в равной мере банально, раздражает неожиданностью грубости, мелкой мудростью, энергией неосознаваемого вампирства. В конце концов, если много хотеть, то что — это плохо?
Штабик
В нашу детскую компанию - по-тогдашнему «штабик» – входили Славик Крайнов, Генка Фомичев, Витя Генкин, Сережа Ваганов, Вова Смирнов и я, имея полномочия «командира штабика», которые ни в чем не выражались. Наверно, только потому, что у нас в сарае был хлевчик, а в нем - коза, а над хлевчиком – сеновал, где мы иногда собирались и строили планы будущей жизни. Среди них – побег во Францию для борьбы за мир.
Потом родители переехали с Московской в новые дома по разным районам и штабик распался. В молодые годы мы вместе собрались один раз, когда мне было 23 года – на день рождения.
ДОТ
Прямо напротив 41-й школы есть Главное милицейское управление Минска, которое построено на фундаменте здания, взорванного бомбой в войну. В нем во времена нашего детства был ДОТ, правда, недолго, к моим годам 10 его разрушили. В этом ДОТе я был однажды. Мы залезли туда через бойницу, очень узкую. Дверь была погребена под рухнувшим зданием, и вход один -- через бойницу. Старшим у нас был Игорь Новаш, на три года старше меня. Нас было человек пять, но кроме Игоря я имен не запомнил. Внутри все было завалено битым кирпичом, и станки от пулеметов на трех стенах, на двух бойницах завалы. Вид ДОТа был страшен: серые стены, обломки, и узенькая бойница, сквозь которую слабо проходит свет. Мне было страшно -- вдруг кто-то подойдет и завалит бойницу кирпичом. Игорь Новаш насвистывал какую-то песенку. Когда мы вылезли наружу, на солнечный свет, то испытали настоящую радость. Игорь Новаш поступил в морскую училище, и там утонул, хоть был мастером спорта по плаванию. До сих пор в это трудно поверить.
Старые деревни
В 1953 или 1954 году мать Вити Генкина (ее фамилия - Степанова) снимала дачу в Олехновичах, не доезжая Молодечно; там, в пяти верстах, была деревня дворов на десять, разбросанных, где придется. Меня на дачу привезла мать Вити, в тесном кузове грузовой машины; потом я добирался туда поездом и пешком. Метров за триста до хаты, которую снимала мать Вити, было запруженное озеро, но в то лето его спустили, и мужики с мешками ходили за рыбой. Мы с Витей с утра до вечера бродили по мокрому, зарослому водорослями дну, но никакой рыбы нам не досталось. Наверно, было бы озеро, впечатления были другие. А так мы бродили по лесу, вместе с местными мальчишками играли в ножики и ели незрелые яблоки. Здесь уклад жизни был иной, чем в городе, хотя Минск в то время был провинциальный город -- 200 тысяч пришлого, в основном, населения. Здесь были другие цвета -- серые. Мужики в кортовых штанах, заправленных в сапоги, покрытые пылью, бабы в старых платьях также серых, ребята все босые, в серых штанах и рубашках. Возможно, это кажется, но серое стоит в памяти, возможно, потому что мы были городские, а они -- деревенские, с печатью на лицах -- сельские. А мы еще не могли понимать, что они точно такие, как мы.
В 1956 году подруга моей матери Патрина повезла сына и больного отца на дачу у моста через Ислочь за три версты от Ракова. С ее подсказки мы также снимали дачу в Междуречье за четыре версты от нее и за семь верст от Ракова. Деревня была маленькая -- четыре домика, из них три довоенной постройки, и один несколько лет как был построен -- в комнате жили мы, а хозяева перебрались в каморку рядом с кухней. У меня нет таких радостных впечатлений из юношеских лет, как на этой даче в Междуречье. Там был Петр -- на 20 лет старше меня, его сын 12-летний, с Петром мы ходили на грибами, ездили за сеном, потом мы были на дажынках, там Петр напился и вынес одну бутылку самогона и мы с него сыном вылили ее и набрали в бутылку воду. Петр присел возле ручья ее выпить и потом, когда осознал, что пьет воду, гонял нас по лесу. Михаил Петрович, шофер отца, выучил меня стрелять из ружья. На бригадирской лошади я учился скакать. За три версты от нас жила одноклассница, я один раз с ней встречался. А еще мы на дороге останавливали свадьбу, за это взяли откупное, и потом у хаты Петра выпивали и закусывали. Со стороны нашего дома был корабельный сосновый бор, там с каждый сосны снимали смолу, и воздух был насыщен смоляным ароматом. Ко мне приезжал Алик Соколовский, мы ходили в лес, на речку, перекрытую запрутой, на которой стояла мельница, и к ней мужики привозили мешки жита на перемол.
Здесь все было другое, даже цвет -- радостный.
Жизнь на небе
Неинтересно, если жизни после жизни на этом свете нет. Тогда все лишается какой-то полноты и смысла, и осуществлений. Только церкви здесь делать нечего. Она приворовывает мечты людей... Лучше было, когда верили в Солнце. Оно было творцом природы и сознательной жизни на Земле, а творцом Солнца был неопознанный Некто, которого нам узнать не удастся.
Тата
Таня моя внучка. Никогда прежде о ней не писал, потому что никогда не писал дневников. Это тоже не дневник. Пару лет тому назад решил сделать некоторые записи, чтобы было, что почитать Ане и Тате, когда меня не будет. В 2007 году Таня и я были на даче. Там несколько дней не было ни мальчиков, ни девочек. Тата рисовала и читала книги. Потом появились мальчики и девочки, и Тата целый день проводила с ними. Вспомнилось мне, что я также делал в своем детстве - бабушка меня накормит, и я на день во дворе.
У нее был званый день рождения. Пришли Сташек и Денис - одногодки - с подарками, мы с Аней поджарили курицу, а еще Аня купила черешни, конфеты, испекла свой наполеон. Таня, Сташек и Денис смеялись наверху, потом еще пришел Саша - 4-летний сорванец. Мы с Аней были внизу и радовались, что так все проходит. Настоящий день рождения, с гостями, без взрослых. Потом они пошли на участок Сташека и Дениса и оттуда слышались их возбужденные голоса. Тата вернулась в восемь вечера - счастливая, а мы с Аней пили компот из смородины.
Славка
Моим самым близким другом детства был Славик Крайнов.
Однажды мы лазили по стройке, и он упал в ящик с раствором. Ему повезло, что раствор был жидкий. Мы попрыгали вслед за ним, он быстро очухался, мы отмывали его и одежду от цемента. Его отец был начальником отдела МГБ, отвечавшим за безопасность высших лиц. Во время войны он был в СМЕРШе. Не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. А мама была прекрасная женщина. Знаю, до войны она была парашютистка, а в войну – летала на ПО-2.
Детское Славкино лицо часто вижу теперь среди любимых лиц.
Рогово
Рогово – это деревня в 40 километрах от Минска, вбок от шоссе на Молодечно. В 1952 году я провел там месяц в пионерском лагере. Лагерь занимал две хаты – старую школу и новосрубленный деревенский клуб, вдвое больший за обычную хату. Школа стояла на пригорке, внизу его проходила грунтовая дорога, а вниз от нее на продолжении склона была криница. Короткий деревянный желоб из двух досок превращал ключ в падающую струю. Вода была холодная и очень вкусная. По утрам мы возле этого ключа умывались. Вода узеньким ручейком текла через луг к речке. Потом через много лет, я прочел в газете, что этот ключ – святое место, вода в нем целебная, и там стараниями властей все благоустроено и заботою церкви поставлен крест. И так мне захотелось побывать в этом Рогово, и возле ключа, где мы обливались водой, брызгали на девчонок, что как-то вместе с фотографом Шлапаком, возвращаясь из поездки, свернули и заехали в Рогово. И вот что: лучше бы я туда не ездил. Ключ обложили булыжниками и желтой керамической плиткой (называется «кабанчик»), по замыслу районного зодчего наделали каких-то загородок для воды («каскады»), поставили колонку, действительно насовали в ограду, металическую и потому соржавелую, крестов. Целебная слава привела сотни охотников на машинах – кругом грязь, мусор, приезжают с баллонами, набирают святой воды на год. Ни школы, ни того клуба, ни луга – распахан под зерновые, речка усохла в ручей, лес отодвинулся за горизонт. Грустно было вспоминать на этом фоне давние годы, наши детские голоса, красивый первобытный луг и вообще пейзаж.
Чуть-чуть не считается
В лет десять у меня, как не знаю, оказались офицерская сабля и настоящий повстанческий тесак, может быть, это был меч - широкий, в длину 60 сантиметров, с бронзовой рукоятью и поперечиной над ней. Я позвал моего друга Славку в наш сарай, и мы решили это оружие попробовать. Договорились, что будем биться -- ни колоть, ни бить нельзя. И мы пять минут скрещивали саблю с тесаком, нам было очень приятно мечтать. Вдруг Славка сделал колющее движение - и острый конец его сабли попал мне в левый край правого глаза. Хорошо, что я успел зажмуриться, иначе глаз я бы потерял. Часа два мы провели в сарае, пока глаз не начал видеть. Потом мы с Витей сдали оружие в музей, и сейчас меч там, среди оружия повстанцев 1863 года, а куда делась сабля я не знаю.
Незабываемое
Мы возвращались с озера на дачу, нас было человек восемь, все разговаривали между собой. Мы с Аней шли сбоку и пели. На музыку своего изготовления и какие-то слова или начало слов, нас оно устраивало. И она так смотрела на меня, как только смотрят в крайней любви. Ей было лет одиннадцать. Нам было весело от этого обожания, от взаимного чувства восхищения.
А в этом году Ане исполняется 30 лет. Она уже женщина, у нее свой ребенок - 8-летняя Танечка, чудесная Тата. И она очень ее любит. Я чувствую себя счастливцем…
Лето 1956 года, Совейки
Совейки – это старинная усадьба недалеко от Ляховичей, принадлежавшая некогда некому пану Совейке. В 56-ом я попал туда на комсомольскую смену, то есть все были от 15 до 18 лет. Нас было в комнате – я, Шурик Ганцевич, Игорь Петрушин, Веня, и хороший мальчик Гена, носивший соломенную шляпу от солнца, которую мы каждую ночь не забывали измазать внутри по краю подкладки зубной пастой, а он каждый день забывал проверить и простодушно получал сюрприз, что погружало нас в безумное веселье, как от фильмов с Чарли Чаплином, где бросаются тортами.
С Петрушиным и Веней мы раз попали в цыганский табор. Пошли на железнодорожный разъезд покупать папиросы, а оказались в таборе – ничем не интересным, - толпа беженцев с детьми, котлом неаппетитного варева, телегами, собаками и т.д.
Запомнилась поездка из Совеек в Несвиж, в замок Радзивиллов и то, как я влюбился и всю всю смену был под влиянием этого. Совейки - чудесная пора жизни, я много раз стремился туда поехать, но не поехал, и сейчас думаю, что правильно - нельзя взрослым навещать юношеские места и переживать юношеские мечты.
Шлягер тех лет: «В этот час светлыя и ясный, О друг мой прекрасный выйди на балкон». Мне он нравится. Даже сейчас, когда играют его по приемнику, вспоминаются дни в Совейках, катание на плоту по пруду, лица девчонок, наши лица - 16-летних.
Молчание
Хочется жить со смыслом большим, чем не умереть рано, и бьешься сам с собой, какие-то дни своего прошлого убиваешь - пусть никто не узнает, может, и сам смогу, это убитое, позабыть. Да и не убитое, а стертое, полустертое - что можно убить в независимом от сознания подсознании? если оно есть это подсознание, а может оно главное осознание, если при оживлении памяти болит? Что стерто и как - никому рассказывать не стоит и нельзя: кто такого опыта не имеет - не поймет; у кого есть - тот знает - ему слушать незачем: твоя война души с умом, бейся, терпи и молчи. Выхожу на люди, самому странно - жив, слушаю глупости - смеюсь. Смеюсь - потому что хочется жить радостнее живой смерти, но потому и смеюсь, что все вокруг то же самое, не переменилось, и желания не проявляет меняться, если не считать физического изменения под влиянием времени и погоды, и меня хотят видеть прежним, когда-то бывшим, известным им всем и понятным, а я уже другой, и мне жутко на сердце. Кто этого не изведал, тот думает с завистью и удивлением, если знает мои грехи и печали: ничего его не берет, ему хоть кол на голове теши.
Лоре
Стрела свистнула, кровь брызнула. Вот и все.
Марина Цветаева
На коне без седла, в бою без пощады, в любви до ярости, в горе до безумия. Скифы!
Скифы - это по-гречески. По-своему - сколаты.
Для них жизнь - где сердце ликует, смерть - где душа томится, а где страдает - пекло.
Орлы над степью - живой знак весны. Солнце в яростной похоти сорвало с земли снежные покрова. Избранница отдалась ему, в лоно ее вошла сила плодить - и рвутся из земли травы, из дерев - лист, каждое семя ищет пару. Земля украсилась зеленью, небеса засияли синью, где лучше, чем здесь - где вырай?
Трепещут ноздри скифа, чуя запах весны, теплый ветер - дыханье жизни. Лучатся синие глаза, жадно, радостно взирают вдаль, в незнаемое, через степь на марево всегда недостижимого горизонта, или в другую сторону - через Понт, через чуждую сверкающую зябь - за море. С таврических берегов - известковых, обрывистых изрезанных оползнями, обжитых чайками - душами людей, забранных морем.
Море Черное - Евксинский Понт - веселый путь смелых людей за руном и счастьем..
Сюда - за руном, туда - за счастьем.
Эллины - за руном, скиф Анахарсис - за счастьем.
Отходит бирема, весла режут мягкое зеркало небес, море меняет цвет: к таврическому берегу - изумрудное, к греческому далекому - черное, а розовые, синие, сиреневые медузы спят в нагретой волне. Уходит берег, сливаются зеленые холмы со скалами, опускается Таврия в пучину на линии горизонта, и уже ничего не видно, кроме волн и неба.
За кормой - былое, известное, впереди -= неведомое, ко которому душа горит, не узнать - пропасть.
Жизнь давняя, что вчерашняя. Почему туда заглянуть тянет? Живого - в ушедшее? Не там ли счастье изведано, и тайною частицей, которая от пращура к правнуку переходит, - помнится?
А уж, конечно, давняя. 2600 годов по Млечному Пути - звездами, по небу - солнцем, по земле - колесом - колом - жизни и смерти прокатились. С-кола—ты!
Но и тысячи лет для души миг. Не сегодня - вчера. Плыла бирема, весла резали Понт. За спиной - степи, родина, свои, одна кровь - родня. Впереди Аттика - чужбина, афиняне - им все не свои. Тут не кровью - душой роднятся.
С родины на чужбину, от своих к чужим - страсть сердца. Сердце ведет, а сердце - к врагу не приводит.
Анахарсис - сын царя Гнура, его голос - воля для всех скифов. Его воля - другим неволя. На родине равных нет, равные на чужбине, свои же - дальше чужих: начнешь говорить - слышат - не разумеют. Нет равных - нет дружбы, дружбы нет - нет счастья, нет счастья - зачем жить?
Одни ищут золото, другие - славы. Кто ищет золото, не терпит соперников4 и кто ищет славы, топчет других, кто ищет славы. Считанные ищут мудрости. Кто мудр - ищет мудрых, свою породу, свой род.
Так Анахарсис пришел к Солону. Пришел - дальше ворот не пустили: зачем чужеземцу к правителю Афин?
Анахарсис сказал слуге:
Передай Солону, что скиф Анахарсис хочет быть его другом.
Солон, выслушав, опечалился ничтожеству своей славы: он -достопримечательность Афин, на него приходят поглазеть, как на диковину, а скиф, по простодушию, даже готов стать другом. Анахарсис? Сын царя Стало быть, по праву царского происхождения? Скифы, подумал Солон, невежество, степная дикость. Чаши из черепов родни. Унылые песни, дикие тризны. Пятьдесят трупов конной стражи на царских могилах. Презрение к стихам, запрет на мудрость. Или это скиф не таков?
И Солон ответил, как ответил бы дельфийский оракул:
- Друзей выбирают на родине.
Слуга понес ответ.
Мудрость - чудо, поэтому она побеждает хитрость.
- Ты, Солон, у себя на родине, - сказал Анахарсис, - ты и выбери меня другом.
Но ведь и то, что сказал Анахарсис, и ответ Солона, все это вошло в легенду, которую Диоген записал для памяти поколений. Так зачем Анахарсиса призывать из колодца веков?
Интересно.
Людей много, судеб несколько: счастливая, несчастливая, никакая. И путей жизни несколько, и два конца ее - бог прибирает или люди убьют.
У мудреца судьба иная, чем у разумного, который в ряду твердо стоит, - носа вперед не высунет, на шаг в сторону не отступит.
У мудрого такая судьба, что ему первый камень в висок, нож в ребра, яд в кубок, стрела в хребет, сквозь сердце.
Тихо стрела свистит - не расслышишь.
Сердце, стрелой пронзенное, - символ любви. И вражды тоже.
Тихо стрела свистнула, кровь брызнула - и по скифскому обычаю - в яму, а сверху - курган, а на свежем кургане - тризна.
Не над всеми тризны гуляли, над многими холмика не насыпали, наоборот - разравнивали, чтобы бесследно исчезли. Бог знает куда, людям незачем, им беспокойно будет.
Но без знания как жить? Как жить с вопросом, который задать некому и нельзя, потому что если спросить, то сурово спросят в ответ: зачем спрашиваешь? Что за червяк точит твой ум? Вдруг червь опору подточит - рухнет трон, а трон рухнет - человек упадет, и станет иначе, чем есть, чем нам привычно. А станет иначе - народ изменится. А мы сами умеем со света сживать - у нас стрелы каленые.
Борьбой мудрости с косностью время меряется. Прежде чем мудрому потомкии честь воздадут, современники ему нож в ребра вгонят, или яд в кубке, или камнем в висок, или стрелу в хребет, под крыло, чтобы не бил в било, не будил сонных.
Путь времени такими крыльями устлан, мягко по ним ступать, терять - больно.
Летит стрела, свист неслышен...
Анахарсис - сын царя скифов, наследник его меча, прибыл из Афин, вощшел во дворец быть другом мудрому. Из суровости сколатской - в вырай, из одного времени - в будущее. Пересек Понт - и обогнал время на тысячу лет. Если точным быть, не на тысячу: через тысячу - наших местах гунны готов рубили. Так что на полторы тысячи. Как бы сказка - но быль, было так. Но если полной правды держаться, то две с половиной тысячи лет надо назвать. Миг - миг, и 2500 лет - тоже миг, если время по прожитым жизням считать.
Приехал Анахарсис в Грецию - кого увидел, что узнал? Сократа, Пифагора, Платона и Аристотеля еще нет, им через сто двести лет появиться, а все равно - наше время, уже те есть, кто и сегодня нас поучает.
Анахарсис слушает.
Мир возник из воды, учит Фалес. А рядом с Фалесом живет Анаксагор - он учит, что мир возник из огня. Анаксимандр с ними обоими не согласен, он учит, что все возникло из воздуха. Разные мысли, каждый толкует, как ему видится, и друг друга стрелами не изводят, и никто за это их на кол не сажает. У нас, сколатов, не так.
Души много, уму ходу нет, обычай стянул, как путы. Другое горе, иные радости.
Эти от наших песен скучают.
Наши от их трагедий заснули бы. Наш театр - когда кровь льется. Когда в праздник жертву на кол бросают, а она стона не издает, а издаст - ее с кола снимут и отдадут собакам сожрать: такого боги не примут - слаб. Кол крепких испытывает. Мы с-кола-ты!
Дорога в Дельфы - горячий песок, жаркие камни. В Дельфах храм, пифии, оракул. Пифии судьбы угадывают, через оракула возвещается, не каждому дано понять - что?
Принесли оракулу треножник - кому отдать?
- Самому мудрому!
Мудрецов семеро. Кто из них самый?
Понесли к Солону. Он мудрец, но еще и правитель.
- Потому и не самый, что правитель! - сказал Солон и направил треножник к Фалесу.
Легко отточить мудрость, родясь в Греции, думает Фалес. В сто крат труднее, родясь в Скифии. Анахарсис более достоин.
И стоит посланец перед Анахарсисом, держит в руках священный треножник.
Анахарсис глядит - не берет. Минута счастья - честь родине, степям, народу, который знает только начало мудрости - бесстрашие. Но разве мудрость конечна?
Мудр оракул: кто скажет: «Беру!» - не мудрец. Мудрец отдаст и обрадуется, что надо далее искать: если найдется более мудрый - он поучится у него. О, славные дни жизни, мудрые друзья, незабываемые их речи!
И вновь бирема в пути. Дуйте ветры, мчите корабль по Черному Понту, под черным небом, под золотом звезд. Приедем - изменим; есть умные - станут вольные, не в том честь - быть вышним над мелкими; быть равным великим - вот смысл. Он, Анахарсис, скиф и царь скифов, желания - вино для него, страсть - его жизнь.
Приплыли. Кони по узким тропам вынесли в степь, по степным травам - к царскому городу - в чашу серо-белых холмов.
Дворец, брат, сестры, непроглядные лица жрецов. Все прочное, из кремня выбитое, нигде трещины нет. И речи жесткие, как удавка из конского волоса.
- Был в Греции - жил по-гречески, вернулся - сколат. Съездить - как во сне побывать, приехал - проснулся. Горестный ли сон, сладкий - забудь.
Забыть - предать. Мудрость - дикости.
Анахарсис! Белые крылья за спиной!. У мудрого все уязвимо: лоб - для камня, ребра - для ножа, горло - для удавки, сердце - для стрелы. Мудрость бесхитростна, зависть - беспощадна.
Охота в степях. Трава в конский рост, кони по головам зверья несутся, в небе вороны кружат - знают, будет им кровь.
Анахарсис в тунике - белой, как белы они там - у Фалеса, Солона, Милена, у дельфийского оракула, который вещие крики пифии рассказывает стихами.
Белая туника - белые крылья, лебедь среди волков.
Стрела свистнула... Кровь брызнула...
Оглянулся Анахарсис - брат еще правый глаз щурил, в левой руке лук держал. Темен брат: смерти не испугается – мудрости боится.
Мудрый злому помеха.
1981, март
Ручеек
Может, это было в Рогово, а может и раньше в других пионерских лагерях. Тогда для младших была такая игра в ручеек – становились парами и кто-то вытягивает кого-нибудь, а оставшийся без пары ищет себе нового или новую. И всех выбирают, а тебя нет. И в душе такая тоска от твоей ненужности. Тогда сердобольная вожатая пожалеет и выберет тебя. А какую-нибудь девочку или мальчика никто и не замечает. И вот помню меня выбрала девочка – Люда Горохова - помню до сего дня. Счастье было замеченным и необходимым. А сколько там в ручейке терзалось мальчишек и девчонок, желающих такого малого счастья, но не менее важного, чем роль для актера.
Непреходящая зависть
Никогда не ходил в садик. Бабушка была моей воспитательницей, и в садик она не отпускала, это как бы лишало ее смысла существования. А мои друзья ходили в садик. Он был в переулке Толстого, теперь это очень близко от Университета культуры. Часто даже не бывая в том районе, я вспоминаю, как приходил к друзьям. Они были за забором, на площадке, там стоял пароходик из досок, на нем мачта и рулевое колесо. По моде того послевоенного времени, моих друзей водили в садик в коричневых матросских костюмах и бескозырках с ленточками. Я приходил и из-за забора смотрел, как они едут куда-то на корабле, и страшно завидовал, что я не там, не с ними, не плыву. Вот и через полвека не могу забыть, как мне хотелось на тот пароход, и быть с ними вместе.
А у нас была коза, и они мне завидовали, что я могу с ней гулять, и меня не заставляют есть манную кашу. Сколько лет прошло, а они при встрече вспоминают нашу козу, козлёнка, белку на ковре, прикрывавшем холодную стену.
Случайности
Дважды я тонул. Первый раз — в канале радзивилловской усадьбы Альба. В то лето в несвижском замке, занятом под санаторий персональных пенсионеров, решили сделать пионерский лагерь на одну смену в 40 дней. И собрали 100 мальчиков и девочек из «приличных семей». В Альбу нас повели на экскурсию. По берегам каналов росли поречки — желтые, впервые их увидел, и они мне показались одним из чудес света и очень вкусными. Каналов некогда было двенадцать, они лучами расходились от острова, на котором стоял дворец, по ним плавали в лодках знатные дамы, а еще они знамениты необыкновенной охотой — тут пускали по течению стеклянных уток, гости Радзивиллов по ним стреляли, утки взрывались, стекло тонуло, гостям было весело, а когда я тонул, мне было плохо в мутной воде, которой я наглотался, опускаясь на илистое дно. Мне был послан спаситель в образе подростка, который наступил на меня, и таким образом узнал, что от него требуется. Он стал героем, я — посмешищем, и услышал от старших мальчиков полное насмешки: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!». Я не знал, что это пушкинская цитата. Тем же летом на речке в деревне Рогово я научился плавать «по-собачьи», и очень гордился, что теперь могу не бояться воды.
Еще меня испытывали на живучесть автомобили. «Козел» поставил мне синяк на бедро, и, сбитый им на грязный асфальт в самом начале пр. Сталина, я оказался в луже грязи. Невелики последствия. Но я сильно испугался, что совершил преступление, попав под машину, и испытал чувство стыда – казалось, все глядят на меня и думают – вот он, преступник и глупец, и я помчался бегом от места происшествия за кинотеатр «Первый». Через много лет автобус «Кубань», наехав со спины, отбросил меня метров на десять, и в результате мне пришлось три месяца лечиться от сотрясения мозга. Оно проявляло себя бессонницей. Три месяца я не заснул ни на минуту, ночью читал, тупо сидел за столом. Потом внезапно бессонница прекратилась. Говорят, что такие травмы не проходят бесследно, и шарики, поскольку их много, не могут занять то положение, которое имели до удара об асфальт. Ибо там, как в калейдоскопе - невозможно повторить прежнюю картину. Но шарики могли бы сложиться в лучшем порядке, чем было прежде. Но не сложились.
А еще меня топила в Свислочи возле разрушенной водяной мельницы в Ждановичах любимая собака. Ее звали Кейзи.
Зеленое
Еще тут не было дач, ни с той стороны железной дороги, ни с другой, только касса.
Витя и я лежим на заросшем вереском холме, глядим в синее небо, день жаркий, не видно ничего – только небо и вереск, если скосить глаза. Нам по 18 лет, мы лежим и поем. Перепели все песни, которые знали. Ничего не происходило, а вот через пятьдесят лет радует сердце и трогательно вспоминать.
А через много лет мы идем - я и Аня - на дачу, и Аня несет меленького котенка в корзиночке. Вдруг перед нами прямо на стежке - лягушка. Аня решила познакомить котенка с лягушкой. Он как только увидел лягушку бросился в лес, а лягушка в другую сторону. Час мы с ней искали котенка, а когда нашли - были радостные не менее, чем я и Витя.
Идя в Зеленое, мы сворачивали на тропинку, которая вела вдоль небольшой пустоши в лес. Вот на этой пустоши однажды конь скубал траву. Впереди нас шли какие-то девочки - лет по двенадцать. В руках у них были веточки. Одна была в юбочке, другая - в новеньких джинсах. Эта другая и подала свои веточки лошади и собиралась ее погладить. Вдруг лошадь резко повернулась, разинула пасть и выдрала из новых джинсов кусок ткани возле кармана. Мы все онемели. Девочку мы утешили как могли, но если бы не эта девочка, тогда накормить лошадь захотела бы Аня, у нее тоже в кулачке были какие-то листики. По сей день мне не хочется воображать, что бы могло тогда получиться.
Маленькие приключения
Нам десять лет, или около того. Славка, Генка и я сидим на вершине холма, что напротив кафедрального собора, и курим сигаретки из черного табака. Впереди через улицу лежит замчище, а за ним дворы Татарского предместия, с левой стороны -- старая Немига, с правой, заречной -- Троецкое предместие. На холме никого нет, свобода. Нам никто не мешает. Мы мечтаем, и у меня есть идея, как можно проехать поездом в Париж, где в секретности можно будет расклеивать листовки "Мы за мир!". Точно так же, как на пропагандистской открытке несколько мальчиков наклеивают листовки, а вдали под красными знаменами идет демонстрация рабочих, и тучный полицейский следит, чтобы демонстрация шла «правильно».
В другой день мы поездом оправились в Ждановичи. Вагоны были простые, без электрических дверей, скорость небольшая, садись на любую ступеньку, и тебя обвевает ветер. На обратном пути мы опоздали на поезд и пошли пешком. Зашли на окраине города в столовку завода -- она была в 30 метрах от полотна -- и на тридцать копеек нам выдали огромную миску рисовой каши и чай, а хлеб был бесплатный. Мы ели тремя ложками из этой миски, выели все, были очень счастливы, и даже через 57 лет я это помню.
Укушенный
Аня купила сиамского кота, вернее, кошку. Она была то у Ани с мамой, то у меня. Как-то раз она была у меня, один незнакомый парень по нашему объявлению дал своего сиамского кота - на случку. Кот был огромный. Любовные отношения не завязались, кот все время отдыхал на холодильнике, а рядом с ним стоял приемник. Когда я проходил мимо кота, он сопровождал меня взглядом подозрительных синих глаз. 31 декабря я решил включить приемник. Было четырнадцать часов дня. Только нажал какую-то кнопку, кот взвился и вонзил зубы мне в руку. Он висел у меня на руке, никогда еще на руке не висел огромный кот, и не думал ее отпускать. Наконец я ударил кота о стенку, он отлетел и начал пыжиться, готов был драться, а я стал дуть на руку, на которой виднелись следы больших зубов. Буквально за несколько минут рука распухла. А вечером я пришел к Лоре и Ане с перевязанной рукой, ел у них левой рукой.
1-го и 2-го января рука болела, и опухоль не спадала. 3-го января я явился к врачу, и там написали в карточке «Укушенный» и сделали предварительный укол. Оказывается, слюна кота содержит вещество, сразу лишающее мышь (и мою руку) движения. Надо сходить к ветврачу с котом. Дней десять надо ждать анализа, который подтверждает «бешенство». Я должен сдать кота на экспертизу, и получить справку об отсутствии бешенства - только тогда не сделают 50 уколов. Я это сделал: узнал адрес этой экспертизы, привез туда кота в сопровождении незнакомой сестры и мамы того парня, там мы посадили кота на стул, наконец пришел доктор. Он, только взглянув на кота, заявил, что кот здоров, и дал мне справку. Я отнес ее в поликлинику, там меня исключили из списка больных бешенством, и из списка тех, кому каждый день звонят на случай заболевания бешенством.
А надо мной все смеялись.
Свалка
На месте нынешнего института культуры была после войны большая свалка трофейного оружия и всякого металлолома. Она занимала большое место -- от ул. Льва Толстого да Западного железнодорожного моста. После война туда приходили составы с испорченными винтовками, минометами, сломанными машинами. Наш двор для игры в войну вооружался стволами винтовок (приклады были сбиты). Потом стали привозить ручные гранаты без запалов. У меня были ствол и два тесака, которые я хранил от мамы и отца под тюфяком на своей кровати. До сих пор не имею представления, куда они делись. Возможно, бабушка взяла мое оружие и выкинула в помойную яму. Яма была огромная, ей не только пользовались 80 квартир дома, но и столовая, которая была в нашем доме на первом этаже. Может быть, на дне этой ямы они лежат, зарытые большой кучей песка.
Игра в войну
Когда мне было лет 9, была у нас модная игра – на трамвайные рельсы выкладывали в ряд пистоны для охотничьих патронов. И вскоре колесо трамвая их давило и раздавалась очередь выстрелов. Старшие ребята покупали мелкокалиберные патроны и клали на рельсы. Пули вылетали, и как никого на улице не поранило и не убило – чудо.
ФЗУ-23
Напротив нашего дома было ФЗУ-23, он появилось вскоре после войны. Там занимались шесть месяцев 14- 17 летние ребята, все родом из деревни. Однажды сношения с ними совсем испортились. Мы били стекла, а они бросали зубной порошок. Иногда -- напильники и камни. Камень ударил мне в висок, на полсантиметра ниже того места, которое оказалось бы смертельным. Залитого кровью, отец понес меня в поликлинику. Рана зажила, а след остался на всю жизнь.
А в следующую смену отношения нашего двора и ФЗУ стали намного лучшими, можно сказать, приятельскими, а для меня даже дружественными. С этими фамзайцами я совершил свой прыжок с парашютом. Фамилию одного помню по сегодняшний день - Ящуров. С ним был дружен, когда он закончил ФЗУ и остался на работу в Минске. Он был старше меня, его забрали в армию, и наша дружба прекратилась.
Сверхестественные силы
Бабушка верила в сверхестественные силы. Какие - не смогла бы объяснить. И не пыталась их себе представить. Знала,что они есть. Не верила в бога (не ходила в церковь), но верила что там, где-то там, живут, слышат, видят, помнят и знают все. Хотела, чтобы внук пришел на могилу и сыграл на аккордеоне (я тогда учился играть, но так и не выучился).
Через сорок лет к таким же чувствам пришла тетушка - Тамара Павловна. Хочется совершенного - потому что неразумно и бесчувственно, что не остается ничего, а остаются звуки, шаги, голоса, взгляды, добрые пожелания, сказанные при случае и без случая, просто в минуту разлуки, и остается встреча с образом - свидания может быть самые искренние, в них много сожаления о несделанном.
Река Березина. Камыши
После первого курса мы были на сельхозработах в Березинском районе. Деревня располагалась на берегу Березины. С нашей стороны росли небольшие камыши -- метров на пять. С противоположного берега камыши занимали, может, метров сто, а может, еще больше. Не помню как, но в один из дней мне с двумя друзьями пришлось эту реку переходить с дальней стороны в сторону деревни. Не будь этого перехода - березинская прогулка выветрилась бы из памяти. Мы брели сквозь камыши по илистому дну, боялись змей, о коих рассказывал наш хозяин, смеялись, когда ноги уходили в яму и казалось, что тонешь, и вообще смеялись тот переход над всякими пустяками, вся переправа заняла минут двадцать, но эти минуты врезались в память навечно.
Болото
Как-то я и братья Сапожниковы – Генка и Володька - поехали в Острошицкий Городок на рыбалку. Теперь это место покрыто водами Минского моря. А тогда там было болото, на котором мы построили шалаш и всю ночь нас ели комары. Мы курили папиросы, а комарам было наплевать на дым. Мы курили, отмахивались, а они нас ели поедом. Потом начал накрапывать дождь, комары попрятались, а мы смеялись, искусанные, с распухшими лицами. Ничего не словили, но были очень счастливы.
Исчезнувший город
В юности у меня был приятель, с которым мы пережили вместе несколько приключений. Однажды в милицейском отделении города Ялта, ночью, когда пограничники задержали нас за ночлег под кустом в городском парке и, объявив бродягами, сдали милиции, мы, подписав обещание покинуть город в 24 часа, помечтали о будущем и решили, что вспомним это приключение в 2000 году на Новый год. Тогда до него оставался 41 год.
Вот уже до 2000 года осталось рукой подать, приятель мой давно умер, и другой приятель, с которым мы пережили другие приключения, тоже умер, и вспоминать те давние наши приключения могу я один. А это совсем не то, что вспоминать вдвоем. Это печальное воспоминание — в одиночестве листать прошлые дни. Да и многих других людей нет, с кем было бы что вспомнить из лучших лет, самых ярких дней жизни — из юности, когда жизнь обещает удачу, ты весел, и счастлив, и все бедствия закрыты за поворотами времени. Но если бы те мои друзья были живы, с чувством глубокой грусти прошлись бы мы сейчас по тем улицам и местам, где гуляли вечерами в молодые годы, где назначали свидания девушкам, где мечтали, каким красивым сможем сделать наш город. Уж как-то и не осталось от него ничего, что было тому назад лет тридцать. Нет маленьких улочек Немиги. Вместо сквера на Центральной площади построен мрачный саркофаг, названный Дворцом Республики. Сняты круглые часы на углах улиц, под которыми мы ждали друг друга. И что самое печальное — все это уничтожено из чувства нелюбви к городу, приезжими архитекторами, у кого никаких воспоминаний ни с улицами, ни со зданиями, ни с магазинами, ни с рекой Свислочь, ни с парками, ни с площадями. Ради удобства поездок на дачу чиновников было выпрямлено русло Свислочи, тысячи лет она текла изгибами в красивом ландшафте — теперь ни ландшафта, ни русла, ни поймы — стрела асфальта. Cнято бульдозером все то, что видели мы, наше. Когда говоришь — вот тут был дом, тут - сквер, тут – красивый магазинчик «Табак» — они глядят на асфальт, площадь, пустоту и ничего не чувствуют.
Ничего не осталось в тех районах, где родился - радиозавод, 30-я школа - снесли, Вместо таинственной свалки металлолома - институт культуры, старый магазин «Табак» сменился на «Кремы и шампуни», дом Олика Бельзацкого, возле которого меня сбил «козел», исчез, кинотеатр «Первый», построенный пленными немцами в немецком стиле, где мы смотрели трофейные фильмы, снесли. Снесли и будут сносить на вкус неразвитого правителя.
Прыжок на гвоздь
После войны наш дом по улице Московской был самым большим в Минске -- в нем было десять подъездов, на углу с ним находился дом с тремя подъездами, два было разбомблено. Квартиры топились дровами, огромный четырехугольник поэтому был занят самодельными сараями. В сараях держали свиней, кролей и кур. Вот однажды мы играли в какую-то игру на сарайных крышах. Вдруг кто-то крикнул «Атас!». В сторону сараев летел здоровенный мужчина с яростными криками «Убью!» Мы все спрыгнули с противоположной стороны, и я наткнулся на гвоздь, вбитый в доску, доска большая и толстая, а гвоздь был копеечный, огромнейший -- он вылез, пробив сандалию, кожу, ногу, и снова сандалию, на сантиметров 15. Я так боялся мужчины, что содрал с гвоздя ногу и добежал до красного костела.
И что удивительно, назавтра осталась на ноге небольшая ранка.
Отцовская деревня
В году 1950-ом, никак не раньше, отец ехал на машине в Витебск и решил посмотреть на остатки родной деревни. Он взял с собой меня - вот так я также однажды в жизни повидал отчизну. Мы остановились у отцовского приятеля, колхозного бригадира. Он взял двух оседланных лошадей, и мы поехали, я - ехал с отцом, сидя впереди. День был солнечный. Мы ехали заброшенной дорогой, километров пять. Я не знал тогда, что отец не был на родном дворе с 1932 года - его обидела мать. Еще я не знал - каким был мой дедушка, когда он умер, когда умерла моя бабушка, мать отца. Я ехал в незнакомое место, детали короткой беседы с приятелем меня не интересовали. То есть я слышал, что они между собой говорили, и все их слова пролетели мимо ушей. Наконец показалась деревня. Тольки комины -- ни изгородей, ни построек, ни остатков рухнувших крыш. Только облезлые комины с выдернутыми дверцами да нетоптаной дикой травой вокруг. Отец и приятель посвящались, какой из коминов принадлежал отцовской хате, а я так ничего и не увидел.
Сейчас я увидел всю ту жизнь - немецкие танки на изувеченных руинах деревни. Деревня называлась Горки. Она позначена среди разрушенных немцами девяти с половиной тысяч и не возродилась после танкового наездa.