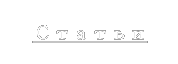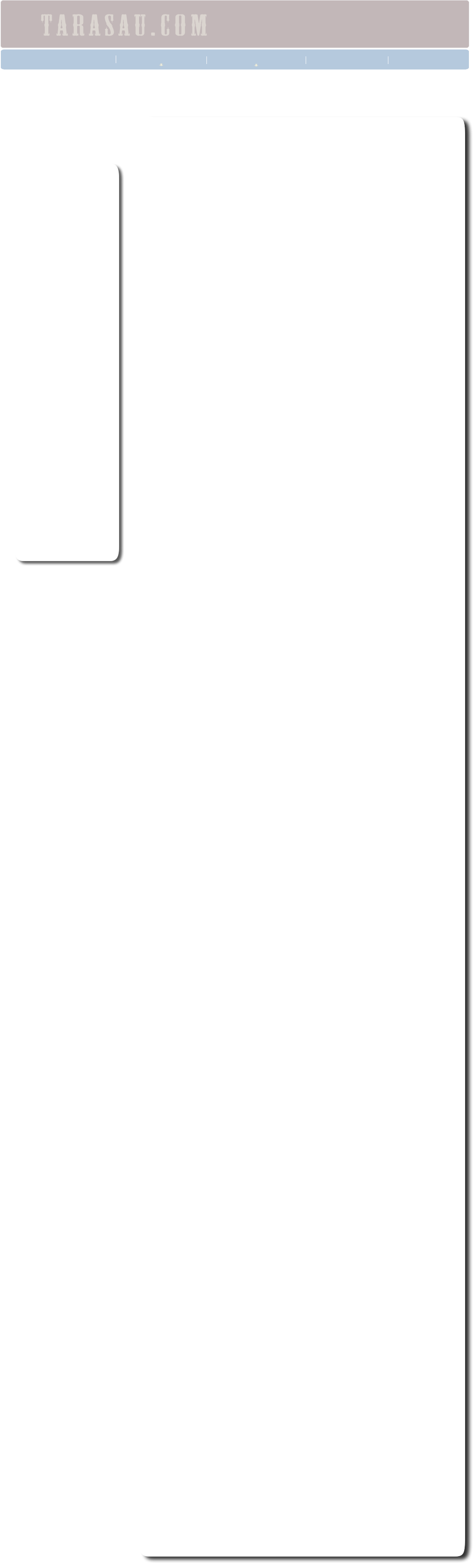

Русский вариант рассказа не публиковался. На сайте приводится фрагмент на основании рукописи.
На белорусском языке читать
![]() "Нячутныя гукі самоты". - Журнал "Дзеяслоў", №30 (05/2007), Минск.
"Нячутныя гукі самоты". - Журнал "Дзеяслоў", №30 (05/2007), Минск.
![]() "Кастусь Тарасаў". - Минск, Кнігазбор", 2012 (рассказ "Нячутныя гукі самоты" в сборнике произведений).
"Кастусь Тарасаў". - Минск, Кнігазбор", 2012 (рассказ "Нячутныя гукі самоты" в сборнике произведений).
Премия "Залаты апостраф" (2007, номинация "Проза") белорусского литературного журнала "Дзеяслоў" за рассказы "Нячутныя гукі самоты" (белорусская версия рассказа "Шепот полнолуния") и "Брыгіткі".
Было далеко за полночь, сон не приходил, не хотелось читать, слышать музыку, вообще двигаться. Сурин сидел у раскрытого окна и зачарованно смотрел, как высоко в ночном небе победно сияет полная луна. Темные пятна на воинственном лице месяца виделись Сурину глазами векового властелина человеческих тайн. Никогда Сурин не ощущал так месячный свет. Сейчас луна словно одушевилась и смотрела жестоко, как следователь на преступника. Неумолимые, прищуренные глаза теперь пристально следили именно за ним. Этот небесный свет как-то мистически уводил от реальности, вызывал со старины полузабытые фигуры и события; воспоминание о них отражалось печалью. Вместе припомнились послевоенная Свислочь, прозрачная, словно стекло, под которым ватагами ходили блестящие ерши, и бассейн за Домом Красной Армии, где подо льдом лежал убитый человек, и поросший полынью курган у деревни Рогово, и гулкое кукование кукушки в одичавшем за войну лесу, и кресты на Кальварийском кладбище, и озеро с красной водой, и чьи-то печальные слезы...
1.
Сквозь это тревожное мелькание Сурин увидел комнату, освещенную свечкой, и, будто отыскав нужный теперь для сердца приют, переступил через порог и оказался в этой комнате, где все было знакомо до мелочи, здесь прошло его детство. За окнами стояла зимняя ночь, в оконное стекло порывами бил ветер, перед печью сидела бабушка, отстраненно наблюдая живую игру огня, а он, совсем еще мальчик, сидел на табурете рядом и заколдованно следил за сменой узоров на угольях - так возродился в памяти один из давнишних вечеров. Вечер тихий, спокойный, можно считать счастливый, ведь в большинстве были они тоскливые... Неделя семейной идиллии чередовалась с месяцем уничтожающего, как отрава, домашнего разрушения, когда бабушка закрывалась в комнате, внезапно охваченная тоской и желанием отойти на тот свет. Она неподвижно лежала на кровати, вглядываясь в расщелины на оштукатуренной стене, сосредоточенная на горестном осознании: "Зачем жить! Опротивела жизнь!", и, что было совсем невыносимо видеть, начинала перебирать в соломенном сундуке свои вещи, выкладывая сверху черное платье, белый платок, туфельки на низких каблуках - убранство в последний путь.
В такие дни в комнату к бабушке никто не смел заходить, это позволялось только ему, Сурину, он жил вместе с бабушкой, здесь стояла его кровать; он приносил дрова, подавал бабушке воду, ходил за хлебом, когда было, за что купить. Деньги от дочери, а тем более от "него", от зятя, отца Сурина, в эти дни бабушка не брала, а своих она не имела. Мать исподтишка давала Сурину пятидесятку; он, чуть постояв на улице, прибегал к бабушке и, излучая радость, провозглашал: "Смотри, бабушка, что я нашел!" Она, чувствуя какой-то обман, расспрашивала про обстоятельства неожиданной божьей заботы, Сурин, смотря в чистые бабушкины глаза, врал, она верила, и уже он бежал через улицу в орсовскую лавку за молоком и булкой.
Все обращения матери к здравомыслию бабушки только разжигали взаимное непонимание и боль. "Мамочка, родная, ну отчего ты не пьешь, не ешь, не говоришь, - просила мать, - не закрывайся, не мучай меня!" - "Ах, дайте мне тихо умереть, - отвечала бабушка. - Я ушла бы отсюда, только некуда идти, приснула где-то моя смерть!"
На столе лежала недочитанная бабушкина книга. Сурин знал, что на обложке черными буквами написано "Петр Первый". А на обратной стороне, раскрыв обложку, Сурин читал рукой бабушки записанные строки: "И грустно и больно, И некому руку подать В минуту душевной невзгоды". Сурин чувствовал, что эти слова печальные, но не понимал, что такое "невзгоды". А спросить он не решался. Так никогда и не спросил, пока через пару десятилетий сам не понял горестный смысл тех строк. В какой-то день обособление завершалось приступом - бабушка теряла сознание, на виске ужасающе надувался кровяной мешок. Сурин испуганно мчал к матери: "Бабушка умирает!". Скоро у подъезда визжали тормоза белой в красных крестах кареты, блестел шприц, сверкал скальпель, с вены струилась в миску темная кровь, к шее и вискам ставили голодных пиявок - они медленно и устрашаюше набухали. Потом медицинская сестра снимала кровопийц, и к обескровленной, обессиленной бабушке возвращалась жизнь; бабушка не помнила, как жила и что делала все предшествующее приступу время. Доктора "скорой помощи", покидая дом, лениво объясняли матери и отцу: склероз, отягощенный контузией, медицина бессильна...
2.
Теперь Сурин понимал, что надлежало объяснять иначе: неудача жизни, отягощенная горестными потерями.
Потеря родного человека и есть неизлечимая контузия. Впервые бабушку контузила смерть ее младшей сестры. Потом - гибель мужа. Потом погиб двоюродный брат, а в освободительном походе тридцать девятого года погиб сводный брат, самый ей дорогой. На третий день последней войны под обломками гостиницы "Европа" исчезла давняя подруга. А скоро и сама бабушка стала жертвой бомбы. В полдень немцы неожиданно налетели бомбить, все успели спрятаться в убежище на огороде, только бабушка замешкалась на кухне, и вдруг - жуткое, невыносимое для слуха вытье, и у крыльца поднялась столбом земля. Дом встряхнулся, повылетало стекло, все венцы, кровля, фундамент, пол на какой-то момент силой взрыва разъединились и заново соединились, но уже не так, как были соединены раньше: все было перекошено и покривлено, одни двери не открывались, другие не закрывались, на стены, продырявленные осколками, лег отпечаток ледяной могилы.
Бабушку осколки миновали, но на мгновение ее душа, память, все нервные, мозговые клетки разъединились, каждая побыла сама по себе, а когда соединились, то многое оказалось искаженным. Левый глаз выглядел здоровым, но бабушка ничего не видела им кроме какой-то белой тени - того привидения смерти, которое не добило ее при взрыве. Память не угасла, но работала какими-то всплесками. Голова держалась на плечах ровно, но внутри нечто сплющенное, порванное ударом взрывной волны безостановочно отзывалось болью; возможно, там стояла болотцами незапекшаяся кровь, которую покрывали, словно ряска, обрывки нервных клеток. Мысли и чувства погрязали в этих болотцах, теряли начальное направление и рождались на свет не такими, как возникали...
А после этой беды довелось отмучиться три года оккупации, когда неотступно точил сердце ужас: заберут немцы детей или не заберут, отправят в Германию или не отправят, высосут из них кровь для своих солдат или не зацепят, погонят в Тростенец, как людей с соседней улицы, или не погонят, окажется их дом при карательных расстрелах десятым или повезет. А при бомбежках, когда рушились каменные строения, горели дома и жизнь целиком зависела от чуда, надо было, окаменев, ждать, произойдет это чудо или не произойдет. И каждый день начинался с вопроса: что есть голодным детям, умрут они от голода или не умрут? А перед этими страданиями, сразу после той бомбежки, когда сгорел дом, пустились бежать из Минска на восток, по Могилевскому шоссе, четверо, семилетняя сестра вела ослепшую бабушку, девятимесячного Сурина мать несла на руках, а сверху колонну беженцев поливали пулеметным огнем немецкие самолеты. Вот мгновение назад бежала рядом женщина с ребенком, а уже они лежат, выплывает их кровь на зеленую траву. Где их похоронили, задумывалась потом бабушка. По-видимому, при дороге, сбросили в какую-нибудь яму, и лежат там всеми забытые. Исчезнувшие без вести жертвы. Те, кто убегал, не имели времени хоронить убитых. Бежали, надеялись, что скорей бегут, чем немец едет. Дотянулись до Смиловичей, к бабушкиной сестре, но и там не нашли спасения, через три дня пришлось брести назад. Сестра сказала бабушке: "Убегай Эдя, здесь местные бойцы вас убьют и нас не пожалеют". И опять сорок верст в город растоптанными в кровавое мясо ногами...
И тянулась пытка жизни, пока не освободили Минск наши танки. Из подвалов и укрытий повыбирались на улицы остатки трехсоттысячного города – несколько тысяч бедных, обессиленных деток, женщины, превратившиеся в старух, старики, превратившиеся в привидения. Праздник! Но стольких людей истребило лихолетье, что бабушке в этой возрожденной жизни тяжело было прижиться. Она силилась понять человеческое зверство, которое в обгон натуральной смерти свирепо уничтожило большинство ее родных. И те, кто умер без насилия, своей смертью, обычной, прожили до обидного короткий век. Их тени, невидимые никому, кроме нее, набивались вечером в комнату. Затушив керосиновую лампу, бабушка рассказывала Сурину ихнюю и свою старину.
Часто она вспоминала стук в оконное стекло - три удара костяшками пальцев. Возможно, она и не хотела рассказывать про то мрачное происшествие своему слушателю, а забыв про его присутствие, вспоминала вслух, ведь кто же будет страшить внука темными тайнами умышленно? Она, наверное, уже и не отличала, что здесь страшное, что обычное; это были памятные вехи ее жизни, в эту минуту только они восставали перед глазами, и должен был остаться хоть какой-то свидетель, какой-то потомок должен принять это наследие - им был Сурин.
Может, роковой стук в оконное стекло вспоминался ей потому, что ночи были такие же звездные, и зеленый свет месяца ложился на пол, как в грустные для нее времена первого знакомства с горем. Бабушка повествовала, и печальные слова переносили Сурина в двор под Смиловичами, в старый дом, где в углу льнули одна к другой четыре девочки, а на кровати умирала их мать. Было тихо, как только может быть тихо в доме, когда вся окрестность спит, а здесь с ужасом прислушиваются к ослабленному, еле слышному дыханию родного человека. Вдруг злостно залаяла собака и спустя миг испуганно заскулила. И все поняли, что она спряталась. Отчим вышел из дома, робко позвал "Кто? Кто здесь?", возвратился и, как-то сам себе не веря, успокоил: "Никого!" Но только прозвучало это успокоительное слово, как послышались легкие шаги, приблизились к дому, и в оконное стекло трижды стукнула чья-то рука. Побледневший отчим сказал: "Это она!" Это смерть определила свое время. В третьем часу ночи бабушкина мать скончалась.
3.
Отчим оставил при себе общих с мамой мальчиков, а дочек от первого брака своей жены раздал родственникам. Сестры разлучились, и оттого, что им сызмала довелось изведать несчастье, они щемяще любили друг друга, и когда встречались, то плакали от радости, что встречаются, и от обиды на судьбу, которая пометила их бедой. Они таили одинаковую мечту; простая их мечта сводилась к простому чуду: мать воскреснет, все они опять будут вместе, мать будет целовать их, они будут ласкаться к матери, и дом станет похож на рай, где ангелы празднуют счастье. Но проходили годы, от мечты осталась только грусть, время вывело к взрослым заботам, и предначертанные несчастья начали свершаться.
Младшая из сестер - ее звали Ольга - сама оборвала свою жизнь. Из-за несбыточной любви. Что это была за трагическая любовь, кто был тот человек, без которого Ольга не захотела жить, бабушка подробно не говорила. Остались в памяти отдельные случайные слова, из них смутно вытекало, что Ольга влюбилась в молодого ксендза из игуменского костела, и этот ксендз или не хотел или не осмеливался оставить костел ради обычной жизни. Да что мог понимать в таких отношениях взрослых людей маленький мальчик? Он больше всего жалел бабушку, которая не могла забыть потерю сестры. Он и теперь, взрослым, не нашел бы точного ответа. Разумные размышления не имеют перевеса над всплесками чувств. На каких весах взвесить чужую боль? По-видимому, была она нестерпимой, если итогом стало самоубийство.
Сурин из бабушкиных исповедей знал место, где та трагедия произошла. Около минского театрального сквера стоял некогда трехэтажный дом; в том исчезнувшем во время войны здании бабушка с мужем снимали квартиру. На втором этаже. А первый занимала кофейня Венкжецкого. С его женой бабушка дружила, а в кофейне работала экономкой, а в тот трагический вечер она с мужем пошла в сквер к фонтану. Поток воды вылетал из горла лебедя и с шумным плеском падал с высоты в круглый бассейн. Легкая влага около фонтана приятно прохлаждала. Ничто не предвещало несчастья. Однако в этой несуществующей теперь квартирке Ольга уже приняла отраву...